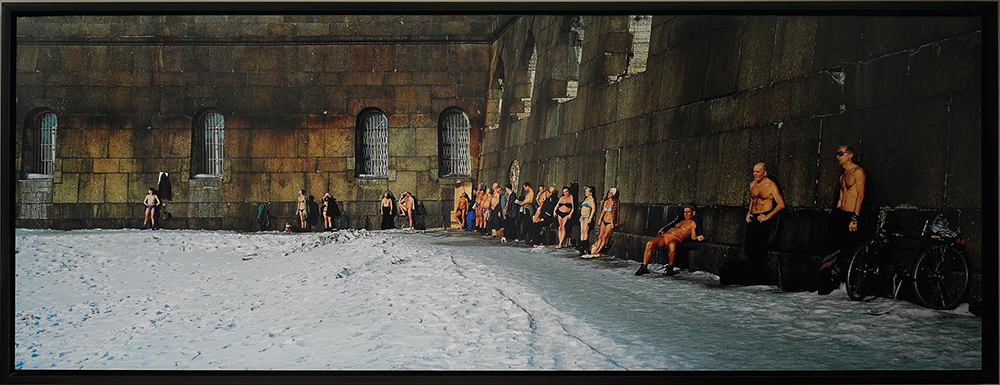Сергей Братков: «Меня всё время окружали кошмары. Поэтому я, наверное, немножко мрачный»
Ветер гонит мусор по пасмурной набережной Харькова.
— Когда-то здесь случился ураган, и с колокольни церкви сорвало колокол, — весело и одновременно мрачно говорит Братков, растягивая слова и показывая рукой куда-то в небо. Я еле успеваю за его быстрым широким шагом. — Колокол упал в реку, и его оттуда водолазы доставали руками.
— Подождите, но ведь речка в Харькове мелкая, как он мог утонуть? — недоумеваю я.
— Такое было! Был порыв ветра, он понёс колокол по воздуху, и тот звенел… — смеётся художник.
Мы встречаемся с Братковым в пространстве бывшей фабрики, превратившейся несколько месяцев назад в модный ресторан и концерт-холл Fabrika. Место находится в старом районе города, где каждое второе здание либо разрушено временем, либо уничтожено пожаром. В окнах без стёкол зияет пустота. Атмосфера здесь — питательная почва для размышлений о бренности жизни и постсоветской бытовой реальности. В общем, подходящее место для встречи с Сергеем Братковым, визуализатором детских страшилок, исследователем мистики повседневности.

Братков — классик фотографии и один из самых известных русско-украинских художников в мире. Он представлял Украину на Венецианской биеннале в 2007 году, а в 2010-м за видеоинсталляцию «Балаклавский кураж» получил главный приз крупнейшей российской премии в области современного искусства «Инновация». Его работы находятся в галереях и музеях Бельгии, США, Швейцарии, Испании, Франции и Германии.
Сегодня он преподаёт молодым художникам в Московской школе Родченко, снимает концептуальные видео, экспериментирует с материалами из смежной среды (например, неоном) и продолжает оставаться острым критиком современности.
Браткова легко узнать издалека: правое плечо чуть возвышается над левым, сутулый силуэт искривляет камера, которая неизменно висит у него на животе под курткой, а из-под козырька модной кепки выступает острый любознательный нос.

Браткову откровенно нравится вся эта мрачность, которая нас окружает. Он с удовольствием позирует на фоне обшарпанных фасадов и выцветших вывесок, кривляется и корчит рожи. Мы проходим мимо мозаик, затянутых рекламными баннерами, мимо бабушек, продающих с картонки мужские носки, мимо распластавшихся на тротуарах бездомных и пьяниц, мимо старенького односкоростного велосипеда, оставленного возле магазина нерасторопным покупателем, мимо огромного рынка, от количества вывесок на котором рябит в глазах, мимо сбивающей с ног толпы продавцов и покупателей.
Браткова этот мрачный харьковский повседневно-бытовой карнавал искренне веселит. Он всё время крутит носом по сторонам в поисках чего-то странного, смешного, дикого, кошмарного, как будто собирает этим носом детали живой картины в корзину, как в советском тетрисе. И без конца рассказывает невероятные истории, смешные и страшные одновременно.
— Однажды мама попала в больницу, — говорит Братков, когда мы проходим мимо зоомагазина, — и когда я пришёл её проведать, она рассказала, что этажом выше лечится одна героиня, которую укусил бегемот, и теперь на неё все ходят смотреть. Я тоже пошёл с видеокамерой брать у неё интервью. Она мне в гипсе его давала. Рассказывает: пошла с другом в зоопарк, они пили пиво, потом друг кинул бегемоту булку, она полетела не туда, женщина полезла в пасть к бегемоту, чтобы положить булку, тот схватил её руку, бойфренд начал колотить пустой бутылкой бегемоту по голове, и тот руку женщине сломал. И вот, представляешь, — смеётся Братков, — они сделали вывод, что это нормально — бегемота кормить булкой, а укусил он её просто потому, что у неё в тот день были месячные. Так я снял про это фильм.
В арсенале Браткова много подобного абсурда: люди, которые совершили что-нибудь глупое или пошлое, или животные, которые порой ведут себя умнее человека, или интимные подробности маленьких личных историй. Собственно, это и есть острие его творчества — человеческое несовершенство во всём его пугающем могуществе.

Сам художник говорит, что таким его сделало бедное советское детство.
— Детство моё было ужасным, — говорит Братков. — Мы с родителями и братом жили в коммунальной квартире, и мама постоянно отдавала меня бабушке и дедушке, которые жили в далёком от центра частном секторе. Дедушка со стороны папы постоянно рассказывал мне небылицы про послевоенный город, населённый пиратами и бандитами, о своём брате, которого задушил кот, и о втором брате, который поехал отдыхать в Гагру, захотел искупаться, пока ждал автобус, прыгнул с пирса в Чёрное море и утонул. Меня всё время окружали кошмары. Поэтому я, наверное, немножко мрачный. А ещё в моем детстве, в 60-е, появилось много фильмов про Франкенштейна. Это было странное время. Вокруг было много мистики.
Квартиры в Харькове у Браткова уже давно нет, продал, и теперь единственное место, где он останавливается, когда приезжает на родину, — это дача брата в городе Южном на подъездах к городу.
— Это место — а я там проводил много времени в детстве — тоже отчасти меня сформировало, — говорит художник. — Помню, когда начиналась гроза, бабушка пугалась и пряталась под кровать. По вечерам мы запирали все окна, а бабушка с дедушкой постоянно говорили про убийства на улице. Мы жили в не сильно обеспеченной семье, и вот такие люди окружают ребёнка какими-то своими страхами. А опыт, как магнитная лента, накапливает подобные истории.


Мы с Братковым погружаемся в джунгли знаменитой харьковской барахолки, которую местные называют «Благбазой» — сокращение от Благовещенского базара. Здесь, в зелёных контейнерах, на дырявых клеёнках, на капотах «москвичей», «жигулей» и прямо на асфальте копится всё старьё Харькова. Люди продают советские значки и бюсты вождей, алюминиевые тазики, пяльцы, затупленные пилы, ржавые инструменты, советский сервиз, леопардовые шубы, самогонные аппараты и простенькие пейзажи. Братков не раздумывая покупает советский набор из десяти элементов — красные буквы «Мир, труд, май», по двадцатке за каждую букву, в подарок своему другу-коллекционеру.
Чуть больше года назад на этой «Благбазе» Братков познакомился с художником и добровольцем АТО Владимиром Туровским. Тот держит на барахолке свой контейнер, где продаёт старые пластинки, советские картины, старые игрушки и всякую мелочь, а заодно выставляет свои масляные работы, посвящённые войне. Это один из любимых героев рассказов Браткова. Ему нравится пересказывать историю про то, как после первой встречи Туровский повёл его на площадь Дзержинского — так по старинке и с плохо скрываемой иронией Братков называет нынешнюю площадь Свободы.

— С нами был ещё один профессор истории, и он рассказал, как всю жизнь мечтал о том, чтобы Ленин ушёл с пьедестала, — говорит Братков. — А когда исторический момент наступил, тот заболел гриппом. Сначала Ленина подпилили и пытались сбросить тросом, но трос лопнул. Тогда этому историку позвонили и попросили помочь. И тут он понял, что пришёл его час: он увлекался альпинизмом, и дома у него была отличная альпинистская верёвка. Вот этой-то верёвкой и сбросили Ленина. И вот историк это рассказывает, а Володя начинает смеяться, потому что тогда все побежали собирать осколки Ленина на сувениры, а Володя, молодец, верёвочку утащил. Вот настоящий коллекционер! Ведь, знаешь, верёвки, на которых людей вешают, — это очень большая ценность, особенно для всяких магических культов. Высший пилотаж.
Сам Братков — тоже своего рода коллекционер, только вместо удавок у него целый сонм персонажей, которых он когда-либо встречал на своём пути: травмированные родительским невниманием дети, пьяницы, оказавшиеся на улице, шахтёры, женщины и мужчины лёгкого поведения… Индустриальное пространство Харькова, говорит художник, подсказывает сюжеты и характер рождающегося здесь искусства. Отсутствие водоёмов и густой природы, с одной стороны, и обилие сталинской архитектуры и штампованной рабочей застройки, с другой, считает он, наложило отпечаток на стилистику местных художников.

Сам он любит рассказывать, что осознал себя художником, когда в школе на занятии по физкультуре не смог подтянуться нужное число раз на турнике и одноклассник обозвал его и плюнул в лицо, и потом Братков обнаружил себя разглядывающим, как эти слюни отражают тяжёлое харьковское солнце. Вскоре чуткая мама отдала его в художественную школу.
Но настоящим художником он осознал себя гораздо позже, уже после окончания института, в 1984 году. Юра, брат Сергея, придумал проект строительства дискотеки в подвале харьковского Политеха. Почему-то ему очень хотелось её сделать.
— Чтобы пробить в здании необходимые проёмы, нужен был компрессор, — вспоминает Братков. — Я договорился с преподавателем Политеха, чтобы нам этот компрессор дали. Мы где-то нашли для него бензин — слили с машины, кажется — и стали радостно долбить стены. Наутро компрессор исчез. Выяснилось, его у нас забрали на строительство детского садика. Я пошёл забираться с ректором, а он в крик: „Садик важнее дискотеки!“ Я не мог сдержаться: „Знаете, садиков много, а дискотека одна!“ Но я ощущал свою внутреннюю правду и потому пошёл в обком партии к первому секретарю. Попал в кабинет, изложил ситуацию. Тот выслушал меня, набрал проректора, выслушал его, встал из-за стола, покраснел и буквально закричал: „Вам что, непонятно? Садик — это больше чем дискотека!“ Тогда я ему сказал, что пока поднимался в райком по ковровым дорожкам, ждал в приёмной и смотрел на его кабинет, увидел, что на эти деньги можно было бы построить не один садик.
После этого Браткова исключили из комсомола. Впрочем, через время восстановили. Сегодня в Политехе его знают как известного художника, и к 60-летию института даже заказали ему скульптуру на замену фигуры Ленина, которая стояла перед главным корпусом. Братков предложил четырёхметровые буквы, из которых складывалось бы слово «Будьмо!», но средств на установку скульптуры руководство почему-то так и не выделило.

Так вот, продолжает Братков, художником он себя осознал ещё когда компресс был в их распоряжении и строительство дискотеки продолжалось.
— В обед я пошёл в столовую и возле мусорника подобрал тоненькую книжку со стихами норвежского поэта, а под обложкой было подписано: «Ахмеду Али с надеждой на любовь, Зина». Какая-то Зина надеялась на любовь с Али… Я начал читать, а норвежская поэзия показалась мне очень пространной, то есть она создаёт прямо физическое ощущение, как за фьордами вырастают новые фьорды. В то время меня увлекала музыка U2, и вот в сочетании с этой поэзией я начал понимать пространство. А когда ты начинаешь понимать пространство, ты становишься художником.
А в 1989 году Братков стал профессиональным художником, впервые получив за свои работы на Нюрнбергской выставке большой гонорар. «Тогда в меня как в художника поверили родители и зауважал брат», — говорит он.
Потом, в 1993-м, появилась легендарная «Группа быстрого реагирования», в которую, помимо Браткова, входил ещё один известный на весь мир харьковчанин — Борис Михайлов. Тогдашний директор Фонда Сороса в Киеве Марта Кузьма (ныне ректор Школы искусств Йельского университета, первая женщина в истории университета на этой должности) организовала выставку украинских художников на военном корабле, флагмане «Гетьман Сагайдачный». Так появилась пацифистская и провокационная работа «Жертвоприношение богу войны»: Братков с Михайловым, одевшись в плащи гражданской обороны, собрали по железной дороге Харькова ватки с менструальной кровью (женщины ввиду отсутствия в то время тампонов выбрасывали вату по ходу движения поезда) и засняли этот процесс на видео. Эту вату, собранную в чёрный мешок, они привезли на корабль и засунули в пушку. Там же, на «Сагайдачном», появилась и антироссийская работа «Плюю на Москву», которая осмысляла украинскую идентичность и полученную независимость.

Братков обдумывает свою идентичность, кажется, по сей день. Осенью 2015-го в рамках Московской биеннале современного искусства он сделал провокационную инсталляцию: закрыл на входе в ВДНХ гербы стран, входивших в состав Советского Союза, чёрными чехлами, оставив только гербы стран, которые входят в Таможенный союз, то есть всего трёх государств.
Постарался тем самым сказать, насколько неудачной оказалась попытка удержать в одном постсоветском мире получившие независимость государства.
Поиск идентичности — по сути, одна из его главных, сквозных тем. Сам Братков считает себя русским (только одна из бабушек была немкой), но смущается, когда ему задают вопрос, чей он художник — российский или украинский.
— Хотим мы этого или нет, а художник определяется по месту рождения, — отвечает он после долгой паузы. — Вот Борис Михайлов — гражданин Германии, но по месту рождения он украинский художник. А я… Когда я прихожу в Третьяковскую галерею, то могу в ней представить своё место, в череде каких-то российских художников. Если ставить такую задачу перед собой, то, наверное, я российский. Но как можно представить украинское искусство без Шагала или Малевича? Всё-таки мы, родившиеся в то время, — заложники.

Мы с Братковым выходим с территории «Благбазы» и попадаем на Центральный рынок. Вокруг страшные вывески, от которых рябит в глазах, мрачные графитовые многоэтажки, разбитые тротуары, сбивающие друг друга с ног недовольные покупатели. Братков смотрит на всё это с нескрываемым удовольствием, вертя любопытным острым носом из стороны в сторону и еле успевая ловить ноздрями мимолётные образы. Под курткой, на животе, у него висит бессменная видеокамера, а в руке — набор из десяти советских букв «Мир, труд, май». Кажется, он надолго обеспечил себя питательной почвой для искусства, чтобы увезти всё это в своей корзине поездом в Москву.
— Почему у нас всё такое уродливое? — зачем-то спрашиваю я его напоследок.
— Какой народ, такой и маркет, — весело и одновременно мрачно отвечает Братков и убегает куда-то вперёд.
Фото: Ольга Иващенко.