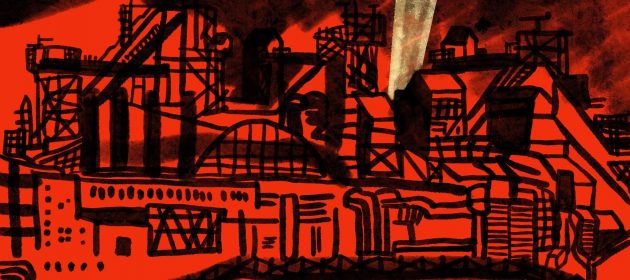Прячься, кто может: Путешествие по Горному Алтаю накануне зимы
На станции «Лениво» я вышел из электрички. Планирую провести три недели в Горном Алтае. Рюкзак забит килограмм под сорок, автостопить легковушки стесняюсь и ловлю только грузовики. 21 сентября выдается жарким, я обливаюсь потом.
Меня везет дальнобойщик Роман. Он держит пасеку и увлекается фотографией. Показывает с планшета свои снимки — Курайская степь завораживает. Хочу туда: бросить палатку в лесу у реки и смотреть на горы. Водитель берет голосующую девушку. Она продает себя за 300–1 000 рублей. «Пью от стыда. Или мне в деревне коров доить, что ли?» — оправдывается мать троих детей и предлагает мне водку.
Провожу ночь на трассе под Бийском, иду на дорогу через город. Первая же машина, такси, тормозит. Еду до Маймы.


«Республика — сплошная дотация, на 95 % бюджета. Чиновникам нет ни до чего дела, кроме как все распиливать. Создали искусственное озеро, а оно под землю ушло», — говорит таксист. Из-за наплыва московских туристов цены на жилье в Майме за год выросли наполовину. Чуйский тракт дальше на юг до Чемала — это сплошные турбазы.
Здороваюсь с бурлящей Катунью, истоком Оби. Осенью она бирюзового цвета, не как летом — разбавленный водой мел. Плаваю с ощущением величественности места. Гопники с четками в руках интересуются: «Что, теплая вода?» Киваю — не верят.
Зачем прятаться от местных, и почему тут не любят москвичей
Русский парень подбрасывает меня до реки Сема. «Тишина и спокойствие», — рекомендует он место, скрытое соснами. В других можно нарваться на вымогателей с турбаз, считающих всю прибрежную зону своей собственностью, или пьяных.
Жгу огромный костер. Любуюсь языками пламени. Пытаюсь осознать, что я наконец-то на Алтае: по пути меня обокрали, пропали паспорт и банковская карта, а лучшую половину сентября я вынужденно работал курьером. На том берегу Семы — каменные обрывы. Мужчины ловят хариуса. Утром я с воплями купаюсь.


Владельцы небольшой типографии из Бийска — Юля и Максим — берут меня до Туекты. Они тоже туристы. Озвучиваю свои планы на Шавлинские озера. Пророчат мне холодный и жесткий маршрут. Два часа стою напротив бензозаправки. Редкие машины переполнены, или водители просят деньги. Я ловлю солнце и фотографирую небольшой горный хребет напротив.
Онгудай, надпись на знаке — «Основан в 1626 году». Гуляет ветер, пахнет сеном, бродят коровы, парень удит рыбу. Про Онгудай, как и про Улаган, говорят, что тут легко нарваться на драку с алтайцами. Русских здесь мало. «Получаю в месяц 10 тысяч, живем за счет скота, охоты и кедровой шишки, — говорит мне ветеринар Максим. — Вот этот дом москвич построил. Уже продает. Не ужился». Приход турбизнеса в эту часть Алтая его раздражает: «Последний уголок чистой природы испортят».
Сумерки, сыреет — бреду по трассе семь или восемь километров, в темноте спускаюсь по каменной щели к Катуни. Срываюсь. Обдираю ногу до мяса. В свете фонаря ставлю палатку и отрубаюсь, чтобы проснуться от холода. На той стороне реки светится стоянка пастухов.


Не рискую ночевать на земле «команчей»
Днем в Алтае еще жарко, а на вершинах двухтысячников виден снег. Завтра я начну подъем в горы, а пока несколько часов ловлю машину в Улаган. Водитель фуры Юрий не будет там ночевать, а засветло вернется на Чуйский тракт. Я использую этот шанс. Трехтысячное село, как и весь район, имеет нехорошую репутацию: машины туристов там забрасывали камнями, случались убийства. Северные алтайцы, живущие среди русских, называют здешних людей «команчами». По пути вижу всадников с ружьями.
Асфальтная дорога проходит через перевал, в начале окружена скалами и осыпями, затем — бескрайней тайгой. Это самый холодный район Алтая, он приравнен к Крайнему Северу. На полсотни километров трассы — несколько турбаз. Улаган — село зажиточное, хотя мусор бросают у заборов. Много новостроек, иномарки. «На туристах поднимают и скотине», — комментирует водитель.
Туристы едут дальше на перевал Кату-Ярык и к озеру Телецкому, вдоль реки Чулышман. Легковушки проходят перевал, а взять его обратно не могут. Тогда алтайцы за 4 тысячи рублей буксируют застрявших «ГАЗами» и «Уралами».
Чибит, Чуйский тракт. Юрий уехал, напоив меня чаем с ватрушками. Моя последняя ночевка возле цивилизации — поляна между ручьем Сардымы и рокочущей Чуей. После полуночи тент палатки встает от заморозок колом.


Вижу следы медведей. Палатка становится бесполезной
Матерю алтайских фермеров. Грунтовая дорога, на карте ведущая к Шавлинским озерам, перекрыта уходящим в реку забором. Лезу по лесу, набираю высоту, выхожу на тропу.
Сентябрьский Алтай — идеален. Зелень соседствует с желтизной, бирюза рек — с белизной снежников. Я часто останавливаюсь и впитываю в себя это. Солнце прячет тайга, и мне зябко. Вода кончается, пару раз чавкает болото, нахожу каску альпиниста и ручеек из-под пня. Жадно пью.
Нижняя Оройская стоянка. Пасется табун лошадей. Подхожу к людям — местные туристы лет за сорок; Андрей, Анна и Гена. Походники серьезные: прошли сплавы, многодневные одиночки в тайге, а медик Андрей восходил на Белуху. Тащат меня к костру и кормят ужином. Пророчат, что я не дойду до озер из-за холода и снега. Советуют ночевать не в палатке, а в избушках: хозяев нет в горах.


Второй день один в горах. Организм дает сбои — третья ночь почти без сна. Оройская тропа все тянется вверх. По ней недавно прошел молодой медведь. Жалею, что не купил файер в поход. Людей нет, только пару дней назад кто-то бросил фантики от конфет.
Дождь. Снег. Чавкаю по грязи, тело остывает, но менять шорты на брюки и поддевать флиску лень. Судя по карте, где-то у тропы должна быть избушка, но не могу найти. Идея ставить палатку в медвежьих следах меня не заводит.
Выхожу на открытое место. Прямо — покрытый снегом горный склон, слегка утыканный елями. Перед носом заимка. Кричу: «Есть ли кто?» — и стеснительно открываю дверь. Замка нет. Земляной пол, три шконки, окно, стол и «буржуйка». Заночую. В Сибири и на Северах останавливаться в таких избах считается нормальным. Какие-то туристы успели насвинячить во дворе консервами. Убираю.
Хата дает чувство уверенности и тепла.


Встречаю последних туристов сезона. Охраняю машину. Тоска
По старой скотоперегонной колее медленно едет внедорожник. Увидеть автомобиль 27 сентября так далеко от трассы я не ожидал. Знакомимся в избушке. Новосибирцам пришла в голову идея — проехать от Курая до Белого Бома: 80 километров высокогорья, заболоченных урочищ, перевал за перевалом. Молодой предприниматель Сергей показывает татуировку на спине — «Made in Sibir». Его девушка Мира — стюардесса. Свадебный фотограф Миша говорит, что слышал вой волков, когда набирал воду из ручья. Отставной сапер Валерий озвучивает прогноз погоды для Шавлинских озер — 10 градусов мороза. До них два дня пути.
На ночь коньяк. Пьянею мигом. Выходим во двор — на высоте 2 250 метров хрустит мерзлая зима. Как хорошо, что я сплю не в палатке.
Утром меня отговаривают «мочиться сосульками» у озер и берут на подножку джипа. То еду, то иду рядом с машиной по урочищу Ештыкол. Навстречу идут русский парень из Горно-Алтайска и девушка из Самары. Возвращаются с Шавлинских: «Было жестко». Последние туристы сезона.


Трудно сформулировать ощущение последующих дней. Не путешественник проходит горы, а они через него. В обмен на усталость и дискомфорт Алтай дарит восторг: альпийские луга, одинокие сосны и лиственницы, останцы, каменные поля с карликовой березой и шикшой, обжигающее озера и легшие под снег горы со следами первых лавин. Безоблачное небо.
Заимка у озера Кара-Кёль — с деревянным полом. Потолок низкий, как большинство местных жителей, а утром протечет. Алтай преподносит дождь, и я кричу от холода во время умывания в ручье. Спустя пару часов встречаем алтайца Степана — на «ГАЗ-66» он собирает кедровую шишку, мешок — тысячу рублей.
Минуем зимовку Ачек, добротные хаты, стада коней, коров, первую турбазу, ЛЭП. Внедорожник ломается в пяти километрах от села Акбом, и я вызываюсь покараулить до возвращения хозяев с подмогой. Пять ночей — читаю и лаконично общаюсь с проезжающими алтайцами. Несколько русских на джипах помощь не предлагают.
Новосибирцы вернулись. Чуйский тракт — дорога на север. Алтай почти накрыла зима, и местные жители спешат домой на забитых кедровыми шишками машинах. Я приближаюсь к городу. Тоска.